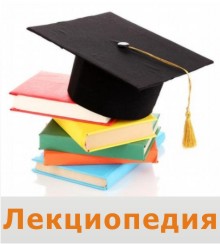
Билет 35
Date: 2015-10-07; view: 363.
| 1)Хронический остеомиелит Как правило, ему предшествует острый период заболевания. Исключение составляют редкие случаи первично-хронического остеомиелита, имеющие следующие разновидности: остеомиелит Гарре, остеомиелит Олье и абсцесс Броди. Различают хронический, гематогенный и посттравматический (огнестрельный, после металлоостеосинтеза и т. д.) остеомиелит. Переход остеомиелита в хроническую форму обусловлен рядом причин, из которых главными являются поздно начатое лечение, недостаточно правильное проведение операции, ошибки антибиотикотерапии. Переходу острого процесса в хроническую стадию способствует недостаточное дренирование гнойного очага в кости. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда не рассекается надкостница над всей пораженной частью кости и нанесенные фрезевые отверстия не соответствуют распространенности остеомиелитического процесса. Главными ошибками антибиотикотерапии является использование антибиотиков без учета изменяющейся чувствительности патогенной флоры и необоснованно раннее прерывание курса антибиотикотерапии. Переход острого остеомиелита в хронический обусловлен также определенными патоморфологическими изменениями, окончательным отделением секвестров или формированием остеомиелитической полости на месте остеоли-чиса. Эти изменения наступают через 2—3 мес от начала заболевания. Клиническое течение хронического остеомиелита складывается из двух фаз: рецидива и ремирсии. При активной патогенной флоре на фоне бслабления организма, охлаждения, травмы и других факторов происходит обострение хронического остеомиелита — фаза рецидива заболевания. 11од воздействием антимикробного лечения или самопроизвольно острота воспалительных изменений проходит и наступает фаза ремиссии заболевания. Такая смена фаз может повторяться многократно. Хронический остеомиелит характеризуется триадой основных признаков: рецидивирующим течением, наличием секвестра (или остеомиелитической полости), гнойным свищом. Рецидив хронического остеомиелита проявляется ухудшением общего состояния. У больного отмечаются недомогание, слабость, головная боль, повышение температуры тела, потливость, может быть озноб. У него появляет-I и боль в конечности, открывается гнойный свищ. В ряде «пучаев над хроническим остеомиелитическим очагом ко-|-;| становится гиперемированной, появляется сильная »м»п, и инфильтрация мягкий тканей, в последующем— * имптом флюктуации, открывается ранее закрывшийся гнойный свищ либо происходит самопроизвольное вскрытие флегмоны в новом месте. После опорожнения гнойника уменьшается интоксикация, температура становится субфебрильной, местное воспаление постепенно ликвидируется, гнойный свищ продолжает функционировать или тоже постепенно закрывается. Наступает фаза ремиссии остеомиелита, которая вновь может смениться фазой рецидива. Клиническое течение различных видов хронического остеомиелита в принципе идентично — происходит смена фаз заболевания. Но при посттравматическом (в том числе огнестрельном остеомиелите) воспаление кости обычно ограничено областью перелома, откуда исходят гнойные е^вищи. Для хронического гематогенного остеомиелита характерно наличие остеомиелитического поражения кости на значительном протяжении метаэпифиза и диафиза с различной локализацией гнойных свищей, нередко нескольких. Соответственно большому распространению воспаления при хроническом гематогенном остеомиелите более выражены проявления хронической гнойной интоксикации, изменения в крови (лейкоцитоз, СОЭ, диспротеине- мия), нарушение функции почек и др. При сборе анамнеза легко установить, что больной в прошлом перенес острый гематогенный остеомиелит или перелом костей, осложнившийся нагноительным процессом. Необходимо уточнить число рецидивов заболевания, продолжительность ремиссии, отхождение из свищей мелких костных секвестров. Выясняют число операций в прошлом, их характер, вид пластики костной полости, ближайший послеоперационный результат. При выяснении жалоб следует уточнить иррадиацию болей в суставы, наличие болей по ходу сосудисто-нервных пучков, что может указывать на образование новых гнойных затеков. Общие симптомы при рецидиве остеомиелита идентичны любому гнойному хирургическому заболеванию, поэтому определяют температуру тела, делают необходимые анализы крови и мочи. При определении местных изменений следует обратить внимание на распространенность гиперемии кожных покровов, инфильтрацию мягких тканей, наличие симптома флюктуации. Важно уточнить степень функционирования свища, исследовать его пуговчатым зондом, что позволяет у некоторых больных установить локализацию остеомиелитического очага. При наличии язв в местах длительного существования гнойного свища необходимо тщательно осмотреть их поверхность и края и при малейшем подозрении на малигнизацию произвести биопсию. Для уточнения распространенности воспалительного процесса на соседние суставы определяют объем движений, наличие болезненности и выпота в них. Важнейшим диагностическим методом при хроническом остеомиелите является рентгенологический, который позволяет установить наличие секвестров, остеомиелити-ческих полостей, хронического периостита, определить протяженность остеомиелитического поражения костей. Очень ценные сведения дает фистулография — направление свищевых ходов, связь их с костными полостями, что необходимо знать при планировании хирургической операции и, в частности, операционного доступа. Непременным является исследование патогенной микрофлоры на чувствительность ее к антибиотикам, а также показателей специфической и неспецифической иммунобиологической реактивности организма больных хроническим остеомиелитом. Чаще всего обнаруживается стафилококковая и грамотрицательная флора в монокультуре или в ассоциациях, устойчивая к многим антибиотикам. У больных хроническим остеомиелитом отмечается умеренное снижение титра стафилококкового антитоксина и показателей неспецифической иммунобиологической реактивности: титра комплемента, фагоцитарной активности и др. Лечение. Хирургическое лечение при хроническом остеомиелите показано при наличии секвестров, гнойных свищей, остеомиелитических полостей в костях, остеоми-елитических язв, малигнизации, при ложном суставе, при частых рецидивах заболевания с выраженным болевым синдромом, интоксикацией и нарушением функции опорно-двигательного аппарата, а также при обнаружении выраженных функциональных и морфологических изменений паренхиматозных органов, вызванных хронической гнойной инфекцией. Противопоказаниями для радикальной операции при хроническом остеомиелите — некрэктомии — являются выраженная почечная недостаточность на почве амилоидоза, декомпенсация сердечно-сосудистой, дыхательной систем |н ДР-Главнейшим звеном комплексного лечения хронического остеомиелита является радикальная операция— некрэктомия, которую часто еще называют секве-стрэктомией. Цель операции—ликвидация хронического гнойного очага в кости и окружающих мягких тканях. При радикальной некрэктомии производят удаление секвестров, вскрытие и ликвидацию всех остеомиелитических полостей с их внутренними стенками грануляций и детри-гл, иссечение всех гнойных свищей. Следующим важным этапом радикальной операции является санация и пластика костной полости. В настоящее время для пластики костных полостей применяют пластику мышечным лоскутом, на кровосдабжаемой ножке, костную пластику (с использованием аутогенной и консервированной костной ткани), хондропластику (с использованием консервированного хряща), реже осуществляют кожную пластику. Используются различные биополимерные материалы: коллагеновая губка, импрегнированная антибиотиками, клеевые композиции с различными ингредиентами и биополимерные пломбы, содержащие антисептики. Все эти материалы имеют также в своем составе препараты, активирующие регенерацию костной ткани. Санация костных полостей после некрэктомии проводится методами активного длительного промывного дренирования и методом вакуумирования. Нередко эти методы используют одновременно: через приводящий дренаж промывают костную полость, отводящий дренаж присоединяют к отсосу. Для промывной санации, которая проводится в течение 7—15 сут, используются различные антисептические растворы: антибиотики, диоксидин, фурацилин, фурагин калия, риванол и др. Эффективность санации костной полости контролируется микробиологическими исследованиями. После выполнения некрэктомии лечение направлено главным образом на подавление остаточной микрофлоры в области хирургического вмешательства, что обеспечивает хороший ближайший послеоперационный результат. Эта цель достигается следующими лечебными мероприятиями: 1) антибиотикотерапией, 2) иммунотерапией, 3) местным проведением физиотерапевтических процедур: ультразвуковой терапии, электрофореза лекарственных веществ. В послеоперационном периоде проводится инфузион-ная терапия: переливания крови, белковых кровезаменителей, электролитных растворов; коррекция обменных процессов; иммобилизация конечности, а затем лечебная физкультура для улучшения функции опорно-двигательного аппарата. 2)Омфалоцелле в фотках ну или на крайняк это : Омфалоцеле относится к распространенному типу внутриутробных пороков развития. Это состояние заключается в формировании грыжи пупочного канатика в процессе роста внутренних органов брюшной полости младенца. Относится к группе тяжелых функциональных нарушений. Зачастую гибель малыша происходит по причине не внимательного отношения акушерского персонала. Дело в том, что при небольших размерах грыжевого выпячивания пуповина внимательно не осматривается, утолщение принимается ошибочно за отклонения от физиологической нормы. Проводится перевязка и разрезание пуповины. При этом происходит разрез важных внутренних органов, среди которых может быть петля кишечника, брюшина или сальник. Развивается картина кризисного кровотечения. Младенец погибает от сочетания болевого шока и массированной кровопотери в течение нескольких минут. Патофизиология омфалоцеле у новорожденных В процессе внутриутробного развития младенца на определенном этапе начинается формирование передней брюшной стенки. Если в это время беременная женщина переносит тяжелые инфекционные заболевания, злоупотребляет алкогольными напитками и курением, то создаются предпосылки для недостаточного развития клеток миоцитов, из которых состоит мышечная ткань передней брюшной стенки. В области выхода пуповины остается достаточно широкое «окно», в которое могут проваливаться петли тонкого кишечника, частично — желудок или желчный пузырь. Системное воздействие инфекционного агента в организме матери приводит к тому, что омфалоцеле у плода формируется в совокупности с другими пороками развития. Наиболее частые сочетания грыжи пупочного канатика и врожденных пороков сердечных клапанов у новорожденных. Также могут проявляться в различной степени уродства строения черепной коробки и лицевого скелета. Общая патофизиология омфалоцеле у новорожденных на данный момент изучена слабо и не может диагностироваться в период внутриутробного развития плода. Диагностика и лечение грыжи пупочного канатика Внутриутробная диагностика грыжи пупочного канатика не представляется возможной в виду малой результативности данных ультразвукового и томографического исследований. Как правило, этот порок развития становится видимым сразу же после прохождения ребенком родовых путей. При полноценном развитии грыжи она достигает внушительных размеров. Ткани пуповины истончены и сквозь них проглядывает содержимое омфалоцеле. В том случае, если грыжа не большого размера, то диагностика затруднена. Возможно, потребуется проведение рентгенологического исследования для установки точного диагноза. Поэтому важно производить обрезание пуповины в том месте, где её толщина достигает только положенной физиологической величины. В месте утолщения не допускается накладывать лигатуры. После извлечения плода поверхность грыжи обрабатывается стерильными растворами и закрывается влажными салфетками. Ребенок незамедлительно переводится в хирургическое отделение. Лечение грыжи пупочного канатика — оперативное. Откладывают хирургическое вмешательство только в тех случаях, когда есть сопутствующая патология. В частности омфалоцеле у плода часто бывает связано с синдромом Беквита-Видермана. Его второе название OMG происходит от названия симптомов, которые включают в себя: омфалоцеле; макроглоссию (увеличение размеров языка); гигантизм внутренних органов брюшной полости. Этому состоянию присуща врожденная гипогликемия. Для нормализации состояния новорожденного ребенка может потребоваться коррекция углеводного баланса крови с помощью внутривенной инфузии 40% растворов глюкозы. Оперативное вправление органов из пуповины и ушивание грыжи должно проводиться в самые кратчайшие сроки. В противном случае может произойти слипание оболочек подсыхающей пуповины и попавших в неё петель кишечника. Распространенное осложнение — рост опухолей внутренних органов в течение первого года жизни малыша. Именно онкологические поражения являются причиной высокого уровня смертности среди младенцев с омфалоцеле, которое представляет собой симптом синдрома OMG 3)Классификация приобретенной киш непр , паралит киш непр У детей, как и у взрослых, приобретенную кишечную непроходимость разделяют на два основных вида — механическую и динамическую. В детском возрасте в группе механической непроходимости выделяют обтурационную, странгуляционную и инвагинацию кишечника. В свою очередь причиной обтурационной непроходимости нередко является копростаз при врожденном стенозе прямой кишки, болезни Гиршпрунга, мегаколоне или свищевой форме атрезии прямой кишки. Странгуляционная непроходимость иногда вызывается нарушением обратного развития желточного протока или следствием других пороков развития. Паралитическая непроходимость кишечника Паралитическом НК обусловлена угнетением тонуса и перистальтики мускулатуры кишечника. Для ее возникновения не обязательно, чтобы был поражен весь кишечник. Нарушение двигательной функции в какой-либо ее части приводит к застою в вышележащих участках кишечника. Паралитическая НК развивается после оперативных вмешательств, травм брюшной полости, при перитоните, забрюшинных гематомах эндогенной интоксикации. Паралитическая НК обычно возникает в 85-90% случаев при инфекционно-токсическом процессе брюшной полости [БД. Савчук, 1979; ЮЛ. Шальков и др., 1980]. Паралитическая НК является одним из постоянных спутников тяжелых осложнений и ведущим звеном патогенеза перитонита. Паралитическая НК может держаться на протяжении многих дней и стать причиной тяжелого течения послеоперационного периода, релапаротомии и высокой летальности больных. Возникая с первого дня, если не с первых часов заболевания, как следствие инфекционно-токсического процесса брюшной полости, парез кишечника вызывает застой и гниение кишечного содержимого, богатого белками, пептидами, которые служат хорошей питательной средой для различных бактерий. Этиология и патогенез: паралитическая НК развивается в результате нарушения двигательной активности кишечника. В патогенезе разлитого перитонита она имеет особое значение. Будучи результатом воздействия развивающегося в брюшной полости воспалительного процесса и накопившихся в кишечнике бактериальных токсинов, она, сохраняясь длительное время, становится одним из ведущих факторов перитонита. Для паралитической НК характерно то, что при этом двигательная функция, постепенно ослабляясь, полностью подавляется. Значительно усугубляя эндогенную интоксикацию, она значительно ухудшает общее состояние больного и нередко становится причиной повторного оперативного вмешательства. Паралитическая НК возникает в самой ранней стадии перитонита в результате подавления симпатической иннервации двигательной функции, обусловленного спинномозговыми короткими и кортико-висцеральными сложными рефлексами [Ч.И. Савельев, М.И. Кузин, 1986]. В связи с этим парасимпатические эфферентные рефлексы, блокируясь, не достигают кишечника. При возникающей при этом атонии кишечника их содержимое подвергается гниению, в нем образуется большое количество токсичных веществ и газы. Вследствие этого образуются такие продукты распада белков, как индикан, аммиак, гистамин и другие компоненты неполного гидролиза белков. Задержка пассажа содержимого ТК влечет за собой рост населяющей ее микрофлоры с резким увеличением микробных токсинов. В результате дисбактериоза нарушаются процессы пищеварения с образованием многих токсических метаболитов. Из-за нарушения барьерной функции кишечной стенки всасывается большое количество кишечного содержимого, богатого токсинами, которые становятся важным фактором, обусловливающим развитие и углубление интоксикационного синдрома. Существует мнение, что даже при септическом перитоните главным источником эндотоксикозов являются не интраперитонеальные, а внутрикишечные бактерии и их токсины. При угнетении сократительной активности кишечной стенки, резком нарушении пристеночного пищеварения, размножении бактерий и усилении процессов гниения в просвете ТК образуется большое количество высокотоксичных недокисленных осколков белковых молекул — свободный фенол и аналогичные ему продукты [А.М. Карякин и др., 1982]. Фенол дезактивируется в печени под действием глюкурановой кислоты, образуя фенолглюкоуранид. Фенол начинает всасываться в кровь из ТК при парезе, произошедшем более 12 ч назад. Его количество прямо связано с подъемом внутрикишечного давления и ростом микрофлоры кишки. Интенсификация распада ароматических аминокислот в результате гниения также приводит к увеличению количества свободного фенола [O.M. Тамм, 1972]. Резорбтивная функция ТК в условиях угнетения моторной функции и задержки пассажа его содержимого существенно нарушается. Собственное пищеварение при этом заменяется так называемым симбиотным пищеварением, осуществляемым гидролитическими ферментами кишечных бактерий [Р.А. Файтельберг, 1976]. Бактериальный гидролиз при этом не обеспечивает полного расщепления белковых молекул до уровня аминокислот. Вследствие этого появляется возможность образования токсических «осколков» белковых молекул. С другой стороны, возрастающая гипоксия кишечной стенки и уменьшение активности ферментов приводит к снижению барьерной функции, что увеличивает поступление из кишечника в кровоток микробов и их токсинов, свободных аминокислот, пептидов и других высокотоксических метаболитов белкового гидролиза [Н.К. Пермяков, 1979; ЮЛ. Шальков и др., 1982]. В результате накопления большого количества жидкого содержимого и газов кишечные петли раздуваются и напрягаются, в их просвете поднимается давление. Расположенные там вены, имеющие тонкие и слабые (податливые) стенки, сдавливаются. Последнее приводит к нарушению оттока венозной крови, возникает застой. Из застойных вен жидкая часть крови выходит в межклеточное пространство и вызывает отек в кишечной стенке и брыжейке (депонирование крови). Кроме того, ухудшается кровоснабжение кишечника, в них возникает кислородное голодание. Эти процессы усугубляются под действием аммиака, гистамина, серотонина и других биологически активных веществ, которые вырабатываются в большом количестве при атонии кишечника. Атония кишечника усугубляется также в результате происходящих в его мышечном аппарате метаболических нарушений. На фоне всего этого развивается недостаточность центрального кровообращения. В результате вздутия кишечных петель поднимается внутрибрюшное давление, ограничивается подвижность диафрагмы. Последняя резко ухудшает газообмен, в легких создаются благоприятные условия для развития там застойных и воспалительных процессов и дыхательной недостаточности. Таким образом, в механизме развития паралитической НК участвует ряд факторов, основным из которых являются нервно-рефлекторные импульсы, возникающие при раздражении брюшины, и висцеро-висцеральные рефлексы, исходящие из центральных отделов НС, которые проявляют тормозящее воздействие на ЖКТ. В последующем к этому присоединяется энтеральный и энтерогастральный рефлексы, которые берут начало из паралитических кишечных петель. По мере развития перитонита помимо сильных импульсов раздражения начинает проявляться также действие токсических веществ как на ЦНС, так и на нервно-мышечный аппарат кишечника. Действие токсических веществ осуществляется как гуморальным путем, так и непосредственно. В последующем параллельно с углублением эндогенной интоксикации помимо функциональных сдвигов возникают и морфологические изменения в брюшине, стенке кишечника, в их нейро-сосудистой сети, приводя к необратимому параличу кишечника. В механизме развития паралитической НК не менее важную роль играют нарушения электролитного (калий, натрий) баланса. При уменьшении в крови содержания калиума и состоянии ацидоза значительно снижается сократительный потенциал мышечного аппарата кишечника [ВА. Жмур и Ю.С. Чеботарев, 1967]. В механизме развития паралитической НК определенное место отводится спазму сосудов, застою в кровеносных сосудах, агрегации форменных элементов крови и образованию микротромбов в них.. Более упорно и тяжело протекает динамическая НК, когда вместе с инфекцией в брюшной полости бывает кровь. Явления пареза кишечника более выражены и протекают упорно у больных пожилого и старческого возраста. У этих больных восстановление двигательной функции кишечника длится дольше. Поэтому стимуляцию кишечника у них необходимо начинать в более раннем периоде. При развитии выраженного и распространенного пареза ЖКТ возникает клиническая картина острой НК. Течение паралитической НК условно делят на 4 стадии. Первая стадия — эта фаза компенсаторных нарушений. Клинически она проявляется легким вздутием кишечника и ослаблением перистальтических шумов. Состояние больного остается удовлетворительным. Вторая — фаза субкомпенсаторных нарушений. Она характеризуется значительным вздутием живота, симптомами эндогенной интоксикации. В этой фазе перистальтические шумы кишечника почти не выслушиваются, больных беспокоят постоянные отрыжки и тошнота. Третья — фаза декомпенсированных нарушений. При этом развивается типичная картина функциональной НК, адинамия кишечника, резкое вздутие живота, наличие симптома раздражения брюшины и т.п. РИ в тонкой и толстой кишках выявляет множественные чаши Клойбера. Четвертая — фаза полного паралича ЖКТ. Это соответствует тяжелейшей стадии разлитого перитонита. Здесь, кроме полного нарушения двигательной деятельности кишечника, подавляются все функции организма, развивается тяжелейшая интоксикация, отмечаются рвоты и т.п. В этой стадии, несмотря на все предпринятые меры, часто не удается восстановить двигательную функцию кишечника. Таким образом, как видно из приведенных данных, паралитическая НК развивается в результате нарушения регулирующей функции нейроэндокринной системы, действия токсических веществ, вырабатываемых при воспалительном процессе, на нервно-мышечный аппарат, а также в результате нарушения кровообращения кишечной стенки, возникающего в них кислородного голодания и нарушения метаболизма. Лечение паралитической НК — сложная и трудная задача. Оно должно носить комплексный характер и начинать его надо как можно раньше, в самых начальных стадиях развития этого осложнения, пока процесс не принял распространенный и необратимый характер и не наступило резкое перерастяжение и переполнение кишечных петель. Когда своевременно и в необходимом объеме не принимаются меры по борьбе с начинающимся параличом кишечника, имеющим локальный характер и поражающим кишечные петли вблизи зоны основного очага и операционной травмы, он начинает распространяться на остальные участки ЖКТ и носит более стойкий характер. Это сопровождается ухудшением общего состояния больного, приводящим к нарушению всех видов обмена. В этих случаях устранение пареза кишечника, т.е. восстановление двигательной деятельности, представляет большие трудности. Резкое ухудшение состояния больного в послеоперационный период при развитии стойкого и распространенного паралича ЖКТ заставляет, наряду с применением обычных методов борьбы с парезами кишечника, изыскивать новые методы лечения этого тяжелого осложнения. Предложены различные методы восстановления моторики ЖКТ при его параличах: электростимуляция [АЛ. Вишневский и др., 1978], применение восходящей и нисходящей кишечной интубации [Ю.М. Дедерер, 1971], цекостомия и агтендикостомия [В.Г. Москаленко, 1978], комбинированная цеко-энтеростомия, внутриаортальное введение раствора новокаина с антибиотиками, гепарином и другими веществами [Е.М. Иванов и др., 1978]. Большое разнообразие методов подчеркивает трудности лечения тяжелых параличей ЖКТ в послеоперационный период. Прежде чем применять тот или иной метод лечения паралитической НК необходимо исключить механический компонент в ее развитии, что встречается довольно часто при инфекционно-септическом процессе брюшной полости. Дифференцировать послеоперационную паралитическую НК от механической иногда крайне трудно, так как в их клинической и рентгенологической картине много общего. Основными клиническими дифференциально-диагностическими симптомами являются отсутствие схваткообразных болей в животе и резкое ослабление или полное отсутствие перистальтических шумов. Своевременное лечение начинающей паралитической НК важно не только потому, что развивающаяся динамическая НК представляет серьезную опасность для больного. Она особенно опасна, если накладывают те или иные анастомозы или швы на стенки органов ЖКТ. Перерастяжение и атония кишечной стенки могут способствовать возникновению несостоятельности швов за счет механического растяжения и травмирования линии швов газами и кишечным содержимым, а также ухудшению заживления анастомоза. Многочисленность методов стимуляции моторики кишечника подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются хирурги в такой ситуации. Одной из причин плохих исходов является стандартный подход врачей к выбору лечебных мероприятий. Эффективность одного и того же метода лечения будет положительной при начальных стадиях заболевания и отрицательной — при поздних. Все еще не разработана дифференцированная тактика лечения с учетом тяжести моторных нарушений. Энтеросорбция способствует детоксикации, раннему восстановлению перистальтики кишечника и ликвидации пареза, улучшению гемодинамики и дыхания. Клинический эффект детоксикации более выражен у больных перитонитом на почве острой НК, когда энтерогенный фактор играет ведущую роль в развитии синдрома эндогенной интоксикации. В комплексной патогенетической терапии послеоперационных парезов кишечника важное место отводится регулярному освобождению желудка и кишечника от газов и жидкого содержимого, что быстрее восстанавливает мышечный тонус и перистальтику. Ранее при парезах кишечника была принята энтеростомия. Однако при тяжелых парезах она малоэффективна, так как обеспечивает опорожнение только близлежащих петель кишечника. Поэтому показания к ней резко ограничены. При этом применяются более активные методы борьбы с парезом — введение зондов в ЖКТ для аспирации содержимого и декомпрессии. Зонд проводят в ТК через носоглотку (зонд типа Эббот—Миллера, Контора, Смита), гастростому, энтеростому и цекостому. Постоянное дренирование кишки позволяет эвакуировать токсическое содержимое и обеспечить быструю декомпрессию независимо от сроков восстановления перистальтики. При этом улучшается общее состояние больных, исчезают боли, тошнота, рвота. Недостатком является техническая сложность манипуляции, необходимость повторного оперативного вмешательства для закрытия стом после удаления зонда. Зонд, введенный ретроградно через ПК в тощую, обеспечивает эвакуацию токсического содержимого и декомпрессию кишечника, что приводит к быстрому восстановлению моторной функции кишечника и улучшению общего состояния больного. Применение декомпрессивного зонда позволяет полностью отказаться от наложения энгеростомы. Для пассивной эвакуации застойного содержимого больным через носовые ходы вводят термопластический зонд, который находится в желудке до восстановления перистальтики. У пожилых больных явления пареза более выражены, восстановление перистальтики у них задерживается. Поэтому, кроме перечисленных выше мер, следует сразу начинать легкую стимулирующую терапию. Хороший эффект дает пантотенат кальция (по 1—2 мл подкожно 2-3 раза/сут). Особенно эффективным считается фракционное введение небольших доз аминазина (по 0,1-0,3 мл 2,5%-го раствора). Сггустя 30 мин после введения аминазина начинается очистительная клизма. Применение указанной терапии дает возможность добиться восстановления перистальтики даже у больных старческого возраста. При неэффективности этих мероприятий приходится более активно стимулировать перистальтику с помощью ингибиторов холинэстеразы (прозерин) и холиномиметиков (ацеклидин). В последнее время при комплексном лечении паралитической НК применяется длительная перидуральная анестезия, особенно при компенсированных и субкомпенсированных нарушениях моторной функции кишечника. Введение анальгетика в перидуральное пространство снимает боль, устраняет паралитическую НК, блокируя соответствующие нервные ганглии (СВ. Дзасохов и др., 1986). Однако при этом стойко снижается АД, несмотря на нормальные исходные величены ОЦК. Поэтому перидуральную анестезию применяют только при нормальных показателях гемодинамики и гомеостаза. Одной из причин неудовлетворительного результата лекарственной стимуляции кишечника при паралитической НК является компрессия его стенки. Грубые изменения микроциркуляции в стенке кишки препятствуют воздействию лекарственных препаратов. Для разрыва этого порочного круга хороший эффект оказывает декомпрессия ЖКТ комбинированным упругим одно- или двухпросветным зондом, введенным через цекостому. Такой зонд обеспечивает полноценную и длительную декомпрессию кишечника. У больных пожилого и старческого возраста или больных с неполноценной дыхательной и сердечно-сосудистой системами более эффективно ретроградное введение зонда через цекостому с доведением конца зонда до уровня трейтцовой связки. Активная аспирация содержимого с промыванием просвета кишечника через зонд позволяет в течение ближайших 2-3 дней в 90% случаев восстановить перистальтику (ЮЛ. Шальков и др., 1986) и уменьшить интоксикацию. С целью восстановления моторной деятельности ЖКТ применяют метод интраоперационной назоинтестинальной тотальной интубации кишечника длинным, тонким перфорированным зондом. Интраоперационное введение через нос до терминального отдела подвздошной кишки перфорированного зонда проводится с целью декомпрессии кишечника и обеспечения свободного полного оттока застойного кишечного содержимого и газов в первые два послеоперационных дня. Постоянная длительная интраоперационная интубация кишечника позволяет успешнее бороться с паралитической НК, существенно уменьшая травматизацию кишечных петель при повторных ревизиях брюшной полости, ликвидируя повышенное внутрибрюшное давление, сводя к минимуму вероятность возникновения кишечных свищей (Б.К. Шуркалин и др., 1988; Р.А. Григорян, 1991). При правильной назоинтестинальной интубации удается добиться активной аспирации кишечного содержимого до полного спада стенок ТК на всем протяжении и сведения до минимума этого источника интоксикации. Декомпрессия кишечника позволяет быстро ликвидировать парез кишечника, способствует уменьшению интоксикации, дыхательной недостаточности, в какой-то степени предупреждает образование послеоперационной спаечной НК. Тотальная интубация кишечника способствует выздоровлению больных с разлитым гнойным перитонитом, тогда как при применении обычных традиционных методов лечения прогноз бывает безнадежным. Больным с парезами кишечника рекомендуют вводить также раствор глутамина, галантамина, убретида, питуитрина, оказывающие специфическое антихолинзетеразное воздействие на двигательные нервные окончания гладких мышц кишечника. Лучший терапевтический эффект оказывает введение 5%-го раствора орнида по 0,5-1 мл подкожно или внутримышечно 3 раза в день. Таким образом, в комплексную борьбу с паралитической НК включаются: 1) медикаментозные средства, стимулирующие перистальтику; 2) механическое освобождение кишечника от содержимого (постоянная аспирация из желудка и кишечника при помощи тонкого, длинного зонда» газоотводная трубка, клизмы, в том числе сифонная, если нет противопоказаний по характеру патологии); 3) коррекция нарушений водного, белкового и других видов обмена, особенно восполнение дефицита в организме ионов калия и натрия; 4) лечение воспалительных процессов в брюшной полости, которые усутубляют паралитическое состояние органов ЖКТ. Билет 36 1)Атрезия желчных протоков. Классификация. Диагностика и дифференциальная диагностика желтухи у новорожденных. Тактика. Атрезия желчных ходов - это обструктивное поражение желчных путей. Частота патологии составляет 1 случай на 1000—15 ООО новорожденных. Впервые атрезию желчных ходов и проблемы, связанные с ней, описал Томпсон в 1891-1892 гг. Первая успешная операция была проведена Лендом в 1928 г. при благоприятной форме — атрезии дистальных протоков. После этого было предложено множество вариантов операций, но ни один из них не мог обеспечить адекватную декомпрессию желчных путей. Новая эра в лечении атрезии желчных ходов связана с японским хирургом Касаи, который в 1959 г. сообщил об операции гепатопортоэнтеростомии у детей с некорригированными формами, т.е. атрезиями внутрипеченоч- ных протоков. С 1968 г. эта операция широко стала применяться в Америке и странах Запада (до 90% детей с билиарной атре- зией). В последние годы установлено, что при атрезии желчных ходов нет полного отсутствия желчных протоков, а они находятся в состоянии прогрессирующего склероза и облитерации вследствие воспалительного процесса. В большинстве случаев нормальные протоки замещены фиброзными тяжами. Поэтому ранний диагноз и ранняя терапия требуются безотлагательно. Этиология. Неизвестна. Предполагают, что это нарушения внутриутробного развития на 6-й неделе гестации. Другие исследователи считают, что облитерация наступает вследствие воспаления желчных протоков вирусной природы (ротавирус 3-го типа). Существуют и другие концепции, но они достоверно не объясняют причин атрезии желчных ходов. При врожденной атрезии желчевыводящих путей различают так называемые корригируемые и не корригируемые формы, из них только 10 корригируемых (рис. 99). Классификация по Касаи. I. Внепеченочная атрезия желчных ходов: 1) атрезия холедоха (тип I): а) частично в области Фатерова соска; б) полная; 2) атрезия общего печеночного протока (тип П): а) изолированная между разветвлением печеночного и пузырного протоков; б) атрезия холедоха и пузырного протока с гипоплазией или атрезией желчного пузыря; 3) атрезия печеночного протока и ворот печени (тип III): а) с сохраненным открытым пузырным и печеночным протоками; б) полной атрезией наружных желчных ходов. II. Внутрипеченочная атрезия желчных ходов. III. Гипоплазия желчных ходов. Из всех вариантов атрезии желчных ходов практическое значение имеют три: 1) облитерация внутрипеченочных протоков; 2) облитерация внепеченочных протоков; 3) кисты в воротах печени, которые сообщаются с внутрипеченочными протоками через мельчайшие каналы. Клиническая картина. Признаки патологии классические, как и при других видах желтух: иктеричность кожи, ахоличный стул, гспатомегалия и темная моча. Дети хорошо сохраняют массу тела, хорошо выглядят. Желтуха у 1/3 больных определяется при рождении, у 2/3 — развивается медленно в течение 1— 2 недель. У детей отмечается нормальный мекониевый стул и только позже появляется ахоличный стул типа белой глины. Выраженная желтуха может симулировать окрашенный стул посредством вторичного выпотевания желчи в кишечник. Моча при атрезии желчных ходов, как и при гепатите, окрашена в темно-коричневый цвет, положительна билирубиновая проба, уробилиногена нет. Диагностика. К предоперационной дифференциальной диагностике относят: 1) исследование сыворотки на гепатит, 2) заключение о возможной инфекции; 3) лабораторные параметры печени; 4) определение альфа !-фетопротеина; 5) определение альфа гантитрипсина; 6) сонографию печени; 7) сканирование печени технецием-99; 8) пункцию печени. Нужно помнить, что для успешного лечения важна ранняя диагностика. Поэтому показана чрезкожная биопсия печени. Гистопатологически печень увеличена, темно-зеленого цвета, плотная. Микроскопически определяется хсшестаз, ветвление желчных протоков, вмурованных в фиброзную ткань, с пробками желчи в канальцах и гепатоцитах. Позже прогрессирует перипор тальный фиброз, который переходит в билиарный цирроз печени. Иногда биопсия печени не выявляет причину желтухи. В таком случае прибегают к сканированию печени с использованием технеция. При атрезии желчных ходов поглощение нуклеотидов гепатоцитами происходит очень быстро, а экскреция в кишечник отсутствует. Особую популярность в диагностике получило в последние годы сонографическое исследование. Оно позволяет определить наличие или отсутствие билиарных путей и желчного пузыря. Лечение. Если имеется подозрение на атрезию желчных ходов, то следует как можно раньше (минимум через 6 недель после поставленного диагноза) произвести лапаротомию и интраоперационную холангиографию для выяснения типа атрезии. Если установлена гипоплазия желчных ходив, то вмешательство заканчивается биопсией печени. При так называемых корригируемых формах атрезии производят холедохо- или гепатоеюноанастомоз по Ру (операция Касаи. рис. 100). При некорригируемых формах накладывают анастомоз между тощей кишкой и воротами печени. Прогноз всегда неблагоприятный, так как после иссечения тканей в области ворот печени нет тока желчи. К сожалению, ток желчи после его восстановления может прекратиться из-за продолжающегося воспалительного процесса. К самым частым послеоперационным осложнениям относится холангит. Причиной его бывает холестаз и бактериальная контаминация. Для профилактики этого осложнения на петле тонкой кишки дистальнее анастомоза создают инвагина- ционный клапан. Прекращение оттока желчи является одной из серьезных проблем после операции. Следует назначить преднизолон по 10 мг/кг массы тела в течение 3—5 суток. Если оттока желчи нет, то прибегнуть к повторной операции. Портальная гипертензия и нарушение жирового обмена могут проявляться в поздний период после операции. Прогноз зависит от времени, прошедшего с момента операции, и типа атрезии. Чем позже оперирован пациент, тем более выражен фиброз печени. Если больные оперированы до 60-го дня со времени рождения, то живут без операции около 12 месяцев. После операции Касаи, по данным многочисленных исследований, 50% пациентов живут 10 лет. |